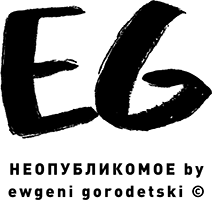Князь Пётр Николаевич Обнорский очень не любил ездить на далёкие расстояния зимой. Тем более такой зимой. Снег шёл третью неделю кряду и засыпал, казалось, всю Правобережную Украину по самые соломенные стрехи крестьянских хат, превратив их в живописные сугробы, как на картинах молодого студента Императорской Академии художеств Юлия Клевера, которые так понравились Петру Николаевичу в прошлом году, на ученической выставке в Петербурге. Но поделать было нечего. Надобно было ехать. Жена князя, урождённая баронесса Екатерина фон Мейхер, в прошлом году преставилась, простудившись, на Масленицу. Отец её, волынский помещик и сахарозаводчик, умер в четверг, о чём князь Пётр был извещён нарочным, приехавшим к нему в имение под Сквирой только в пятницу, двадцать второго ноября 1867 года по юлианскому стилю, к ночи. Вот и пришлось князю срочно, в субботу, выезжать в Житомир, дабы не успели разворовать всё имущество и столовое серебро дворовые людишки да прислуга. Дорога, однако, выдалась ужасной. За день езды карета князя, переставленная на полозья, проехала только около тридцати вёрст и к наступлению темноты оказалась где-то недалеко от знаменитой Верхивни, поместья графов Ганских, где жила когда-то красавица Эвелина Ганская, ещё в 1850 году, со второй попытки, получившая высочайшее разрешение и вышедшая замуж за французского писателя романов Оноре де Бальзака и уехавшая за ним в Париж, где они и прожили вместе счастливо последние пять месяцев его жизни после почти двадцатилетнего романа. Однако князь знал, что имение Ганских стоит закрытым после отъезда Эвелины и её дочери Анны, последней графини Мнишек.

«Как интересно распоряжается жизнь, – подумал князь. – Ведь сестрой Эвелины Ганской была Каролина Собаньская, в которую был влюблён Пушкин, написавший «Бориса Годунова» с героиней Мариной Мнишек, а за ним и Адам Мицкевич, а шафером на свадьбе в Бердичеве был польский поэт Густав Олизар, с которым я неоднократно встречался в Крыму, в его имении Артек. А вот, поди ж ты, Бальзак умер, Александра Сергеевича уже больше тридцати лет нет, Мицкевич умер от холеры в Константинополе, пытаясь организовать польский и еврейский легионы для борьбы с Россией, а Олизар умер четыре года назад в Саксонии. А дамы живут себе в Париже, припеваючи».
Снег усилился.
В переднее окошко кареты постучали. Камердинер Никита приоткрыл его и внимательно выслушал кучера Афанасия.
«Ваше сиятельство, – сказал Никита, закрыв окошко. – Ночевать надо, а постоялый двор далеко, дорогу занесло, кони обледенели. Пропадём.
Афанасий говорит, что тут, в двух верстах, монастырь есть, женский правда, но пустят нас, думаю. На погибель не оставят».
Пётр Николаевич махнул рукой, давай, мол.
Через час измученные лошади кое-как дотянули карету до закрытых тёмных дубовых ворот в белой стене, окружавшей монастырь. Афанасий с трудом слез с козел и постучал в ворота. Ещё через полчаса князь пил чай с архиепископом Волынским и Житомирским Агафангелом в горнице дома с пятью спальнями, построенного для богатых паломников в ряду хозяйственных построек монастыря. Афанасию дали место на конюшне рядом с лошадьми, а Никите определили место тут же, в гостиной комнате, на лавках, на которые бросили тюфяк, набитый соломой да подушку из кареты.
Владыка и рассказал князю, что завтра, в воскресенье, в монастыре престольный праздник, Святой Екатерины – великомученицы покровительницы монастыря, и он, владыка, приехал провести праздничную службу.
«Оставайтесь на службу, Ваше Сиятельство, заодно и жену Вашу, покойницу помянем, Царство ей небесное!», – сказал владыка Агафангел, оглаживая длинную седую бороду, заодно вычищая из неё крошки постного пирога с капустой. Пост, как никак.
Князь, неожиданно для себя, согласился.
Утром, когда князь Пётр Николаевич, наскоро съев тарелку гречневой каши без молока и выпив чаю с баранками, вышел на крыльцо, он поразился количеству крестьян, собравшихся во дворе монастыря. Чоловики в шароварах и бабы в праздничных плахтах, видимых из-под верхней одежды, девки в ярких платках, намистах, и красных чобитках, в красиво повязанных платках, парубки в расстегнутых, несмотря на мороз, кожухах, под которыми были видны богато расшитые вышиванки, расступались перед князем в его длинной, до земли шубе с бобровым воротником, мужчины стягивали с голов барашковые кучмы и кланялись.
«Всё-таки, как пошёл на пользу народу нашему, малороссийскому, Указ Государя об отмене рабства», – подумал князь.
В церкви тоже было полно народа. Горело множество свечей, владыка уже служил, хор монашек, стоявший справа от алтаря, пел ангельскими голосами. Князь прошёл вперёд и стал молиться со всеми вместе, одновременно рассматривая богато украшенный иконостас. Молитва длилась долго и князю всё время казалось, что кто-то смотрит на него с иконостаса, под которым расположился хор, наблюдает за ним. Ему стало не по себе. В церкви было душно, остро пахло мокрой овчиной кожухов и, одновременно, воском и ладаном. С внезапно заболевшей головой Пётр Николаевич вышел на улицу. Никита, разговаривавший с крестьянами, подошёл к нему и сказал: «Ваше сиятельство, не уедем сегодня. Занесло все дороги. Дядьки говорят, что снега сегодня уже не будет, а до завтра трохи почистят. Придётся ещё на ночь тут остаться». Князь Пётр недовольно хмыкнул, но делать было нечего.
После ужина из варёной картошки и квашенной капусты Пётр Николаевич удалился в свою спальню, начал читать новый французский роман писателя Виктора Гюго о судьбе благородного каторжника Жана Вальжана, присланный племянником, служившим в посольстве в Париже, и не заметил, как уснул.

Проснулся князь от ощущения, что кто-то находится в его комнате. Он приподнялся в кровати и, действительно, увидел на фоне окна, заливавшего комнату синим снежным светом, женский силуэт в монашеской одежде.
«Кто Вы, и что Вы здесь делаете?», – спросил Пётр Николаевич.
«Тише, – ответила монахиня. – Ежели владыка услышит, меня сурово накажут. Не узнал ты меня, Петенька-солнышко!»
Князь откинулся на подушки и почувствовал, как по спине побежал ручеёк холодного пота.
Двадцать лет назад, в 1847 году, служил корнет Петя Обнорский в Ахтырском гусарском полку Его королевского высочества принца Фридриха Прусского. Да-да, в том самом, которым в войну 1812 года командовал сам Денис Васильевич Давыдов. Было ему тогда двадцать два года. Полк был расквартирован в Межибужье, на Подолье, аккурат рядом с границей с Австро-Венгрией. А там, как раз и началась революция, так называемая Галицийская резня, в Галиции, заселенной преимущественно русинами-крестьянами и поляками-помещиками, интеллигенцией и мещанами. Ну, если иудеев не считать. И стали русины резать и громить поляков.
Государь, обеспокоенный, дабы не перекинулись волнения эти на территорию Малороссии, особенно в её западных губерниях, где поляков проживало множество, повелел усилить гарнизоны в губернских и уездных городах на Волыни и Подолье. Так и попал первый эскадрон «коричневых» гусар под командой ротмистра фон Фихтенгаузена, в котором служил Петя, в Житомир. Город на Петю впечатление не произвёл. Пыльные, немощёные улицы, огромное количество иудеев в лапсердаках, составлявших больше половины жителей города, только синагог было около тридцати. Князь Пётр Николаевич про себя, конечно, называл их по-другому, «жидами». Однако, вслух, будучи человеком дисциплинированным и верноподданным, помнил об указании Государыни Екатерины Великой от 1787 года вымарать из всех указов и бумаг государственных оное слово и вписать «иудеи», вслух это слово не употреблял. Поляков в городе тоже хватало и смотрели они на гусар, мягко говоря, враждебно, а также жило в нем небольшое количество великороссов и русскоязычных украинцев, в основном, губернских чиновников, обедневших дворян да купчишек. Прибытие гусар, однако, всполошило женскую половину этой части населения Житомира, тем более что господ офицеров расселили по «русским домам». Молодой князь попал в дом чиновника по особым поручениям, строго говоря, представителя Корпуса жандармов при канцелярии Волынского губернатора, Александра Мартыновича Видау.
Александр Мартынович, пожилой человек сорока восьми лет, после смерти супруги жил вдвоём с пятнадцатилетней дочерью Анной, русоволосой красавицей, с тонкими чертами лица, и темными, почти чёрными глазами, взятыми ей от покойной матери, польской шляхтянки из обедневшей ветви семьи Сапег, давшей Польше и Литве множество гетманов, политиков и учёных, в типичном для Житомира большом одноэтажном доме с обширным садом и надворными постройками на Кафедральной улице, возле католического костела, что позволяло ему завязать приятельские отношения с настоятелем оного, отцом Казимиром, и, таким образом, отслеживать настроения польской интеллигенции и помещиков, как известно, всегда готовых выступить против Российской империи.
Александр Мартынович был очень занят на службе и не обратил внимания на бурно развивавшийся роман молодого князя с Анной. Первые несколько дней она смущалась и избегала князя, но, однажды спросила его, почему у ахтырских гусар коричневая форма. Обнорский с удовольствием рассказал девушке полковой анекдот о том, как в преддверии победного парада в Париже полковой командир Денис Васильевич Давыдов прибыл в расположение полка в городе Аррас и был поражён состоянием формы гусар, износившейся в боях. Недолго думая, герой-полковник отправился в находившийся неподалёку женский монастырь капуцинок, и конфисковал у них запасы материи для монашеских одеяний, из которых и пошили новую форму гусарам. Государь был так впечатлён этой новой формой, что повелел отныне иметь её ахтырским гусарам только такого цвета. Отныне в офицерских застольях ахтырцев третий тост всегда был: «За французских женщин, которые пошили нам мундиры из своих ряс!»
Молодые люди начали общаться, гуляли вместе в саду и к речке Каменка, находившейся неподалёку. Через неделю князь впервые поцеловал Анну. Она ответила ему с пылом и страстью, неожиданной для пятнадцатилетней девушки, да и для самого влюблённого. Пётр даже купил ей в подарок красивый серебряный крестик и попросил иудея-ювелира сделать на нем гравировку АВ, и год 1832, год её рождения.
Они продолжали гулять вместе и целоваться, когда были уверены, что их не видят. Было в Анне что-то сумасшедшее, что-то немного странное и загадочное. Видимо, тоже от матери, как рассказывал ему его вестовой Афанасий, близко общавшийся с кухаркой Любкой.
Однажды, грозовой июльской ночью, Анна влетела в его комнату в одной только ночной рубашке, насквозь промокшая, и бросилась ему на шею. «Я была в саду, я люблю бегать под дождем, но сегодня такая гроза! Мне страшно! Петя-солнышко! Обними меня!»
Пётр обнял её и прижал к себе, почувствовав прикосновение её небольшой груди к своей. И что-то кольнуло. Подаренный им крестик, понял он.
Анна как-то прерывисто, на всхлипе, вздохнула и опустилась на край его расстеленной постели.
Утром следующего дня корнет Обнорский был послан с патрулем в Коростышев, а когда вернулся на следующий день, Анны дома не было.
Александр Мартынович ждал его в гостиной. Руки у него дрожали.
«Что же Вы, молодой человек, бесчестно пользовались нашим гостеприимством? Как могли Вы обидеть сироту? Понимаете ли Вы, что только одно может исправить Вашу вину- немедленная женитьба?»
«Это невозможно, я помолвлен. Мои родители никогда не позволят мне сделать такой шаг», – ответил князь.
«Будьте же Вы прокляты!», – промолвил несчастный старик.
«Могу ли я поговорить с Анной Александровной?»
«Она уехала и Вам её не разыскать», – таков был ответ.
В эту ночь князь переночевал у сослуживца. Рано утром его вызвал к себе командир эскадрона ротмистр фон Фихтенхаузен и предложил, во избежание неприятностей от корпуса жандармов, к коему принадлежал господин Видау, написать рапорт на Высочайшее имя об увольнении со службы, а пока отъехать в отпуск в родительское имение, благо оно было недалеко, всего каких-нибудь сто вёрст, возле Сквиры. Князь написал рапорт и уехал.
Через год он женился на баронессе Екатерине фон Мейхер, с которой был помолвлен с детства и принёсшей ему огромное приданое. Их отцы служили вместе в том же Ахтырском гусарском и помнили славный парижский парад. Княгиня родила ему троих детей. Жили они хорошо, и князь полностью забыл о грехах своей молодости.
И тут вдруг такое.
Пётр Николаевич непроизвольно закрыл глаза и сильно потряс головой, как бы снимая наваждение. Когда он снова их открыл, в комнате никого уже не было. Только на столе лежал серебряный крестик, тот самый, который он подарил Анне Видау в далеком уже 1847 году.
24 ноября 1917 года толпа крестьян ворвалась в имение князей Обнорских под Сквирой, разграбила и сожгла его дотла. Дочь покойного князя Петра Николаевича, графиню Анну Петровну, пятидесяти семи лет, пощадили и выгнали на улицу, в чём была. Через четыре дня она заболела тифом и умерла на перроне железнодорожной станции Фастов, куда дошла пешком. Сын её, молодой князь, тридцатитрёхлетний штаб-ротмистр Пётр Кириллович был в это время в составе Ахтырского гусарского полка имени Дениса Давыдова на румынском фронте и о судьбе матери так и не узнал до самой своей смерти, 7 декабря 1920 года по новому стилю, когда вместе с другими офицерами 12-го сводного кавалерийского полка Вооружённых сил Юга России был расстрелян в Крыму большевиками. Его золотой портсигар и нательный крестик с инициалами АВ, передававшийся в семье по мужской линии, достались восемнадцатилетнему командиру расстрельной команды Петьке Кузьменко, по странному стечению обстоятельств бывшему родом из Житомира, из села Малеванка, находившегося на берегу реки Каменка.
7 декабря 1967 года первому секретарю Ружинского райкома КПУ в Житомирской области Петру Ивановичу Кузьменко стало плохо в кабинете. Ему было всего шестьдесят пять, но был он человек тучный, злоупотреблявший спиртными напитками и нездоровой едой, а вчера так вообще перебрал, после возвращения из Житомира, из обкома партии, где было ему велено собираться на пенсию, несмотря на все его заслуги, революционное прошлое и службу в органах. Скорая приехала через пятнадцать минут, но было поздно. Врач констатировал смерть от инфаркта и тихонько, чтобы никто не видел, передал вдове снятый с шеи покойника во время непрямого массажа сердца, старинный серебряный крестик.

Седьмого декабря 2017 года сорокавосьмилетний сантехник Петька Кузьменко, прозванный собутыльниками, которые одновременно были коллегами, как он их называл, по работе, из-за всегдашней его неаккуратности в одежде и безразличии к собственному внешнему виду, «князь Обноский» проснулся рано, в холодном поту и, облокотившись на локоть, осмотрелся в захламленной, неубранной комнате однушки на Борщаговке. Никакой монашки и мертвых гусар в комнате не было. С тех пор, как жена Катька бросила Петьку, прошло уже три года и, по-настоящему, Петька ещё не просыхал. «Господи, ну почему каждый раз снится одно и тоже! За что это мне? Откуда оно у меня в голове?»
Петька встал. Выпил заначенную специально с вечера бутылку пива, сполоснул лицо холодной водой и стал одеваться. Перед тем, как надеть свитер на рваную на груди майку, по привычке пощупал, на месте ли старинный серебряный крест, который мамаша перед смертью надела ему на шею. Крест был красивый и на обратной стороне были выгравированы инициалы АВ и год – 1832. Он подошёл к окну и отдернул полуоторванную штору. На улице шёл плотный снег. Машины позаносило по крыши.
Петька надел старую куртку и вышел из подъезда. Бабки, стоявшие тут же и обсуждавшие повышение оплаты за коммуналку, расступились, давая ему дорогу. «Алкаш», – прошипела одна из них ему в спину. Петька обернулся и, глядя ей в глаза, сказал: «Поубиваю на хер, старые суки». «Креста на тебе нет, пьянь», – сказала его соседка Мартыновна. «А вот и есть! Чужой, правда, но есть», – подумал Петька и пошёл, загребая прохудившимися сапогами свежий снег.
The End
Иллюстрации Алексея Макаревича