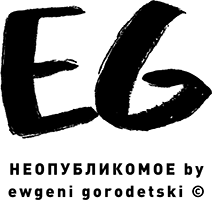Такая в воскресенье тишь да гладь,
что хочется себя взорвать,
забрызгав стены, пол и потолок,
чтобы потом спросили: «Ты же смог
или был только имитацией подрыва?
Не шатко и не валко, косо, криво,
не соглашаясь и не возражая
петлял себе от края и до рая?»
Но рая нет. Есть только воротА
на ржавых петлях. Ну, и пустота,
похожая на Сциллу и Харибду,
дыра, как лаз в разграбленную крипту
и до смерти уставший часовой
с трясущейся от горя головой,
а может от наследственной болезни.
Хор стариков поёт блатные песни
на каждом из забытых языков,
Блестят глаза дворовых кошек и котов,
рекламу на столбах чихвостит ветер.
Что там ещё осталось в смете,
не разворованное мною по пути?
Спасатель мой уехал навестить
Спасителя, застрявшего в пустыне,
ему не позвонить, не вспомнить имя,
но повторять на запрещённом языке:
«Спасибо, Г-споди, что я в живой реке
омою ноги, руки и лицо».
В присутствии молчащих праотцов
праматери напоят из сосцов
остатками остатков молока.
Тепло их тел не чувствует щека
и холодит сквозняк виски и шею.
Пора вступать в бригаду назареев —
не пить вино, не хоронить друзей,
от Флавия узнав, что фарисей,
не стричь волос и, раздавая семя,
плодить высоковыйно племя.
Такая в воскресенье тишь да гладь,
что хочется себя взорвать.