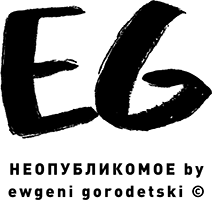И мысли твои, и чувства,
и лёгкости бытия,
и даже играть искусство
не стоят того огня…
Н Е О П У Б Л И К О М О Е
І ще не прибране повітря
в пилу та в гіркоті розтрат.
Та й сонце взимку вже не хитро,
а зимно дивиться з-за ґрат…
Позовите меня в удивительный круг —
неслучайных друзей, неслучайных подруг,
разделяющих стол и, возможно, постель,
пригласите уже, позовите теперь…
И будет день, и будет тень
от тонких тополей бульвара
как шрамы вдоль предплечных вен —
для смерти много, к жизни мало…
Вот, если хочется — вам одиночество
и предрассветная темнота.
По телефону, по имени отчеству,
спросит о чём-то любая не та…
Считать нас будут по пятёркам,
а запускать по одному.
На входе парень в гимнастёрке
из тех, кто помнит Колыму…
Не жди меня, я отстал безнадёжно,
без багажа и проездных документов.
Не успел вскочить на подножку
сбежавшего поезда — киноленты…
Я редко выхожу из тени,
боясь протуберанцев дня
и протоколы намерений
не исполнимы для меня…
Неприкасаемость твоей — руки.
Недосягаемость — из-за реки.
Неразводимые мосты — пусты,
невыносимые часы — грустны…
У меня нет себе рецептов,
как убрать головную боль,
Я глотаю таблеток лепту —
плюс на минус рождает ноль…
Вода из крана метрономом
не отбивает жизни такт,
гипнотизируя в истому,
в которой, кажется, не так…
А за окном такая муть.
Влюблённых пробирает жуть,
что всё замёрзло до весны —
их удивительные сны…
Единственный способ жизни поэта
думать и заполнять стихами просветы,
пробелы и то, что осталось от памяти
в бесчисленных эпизодах драмеди…
Так оно будет, милый, нас разведут с тобой
В разные две могилы, с распятием и звездой.
Жили, вот, вроде, вместе, а хоронить, так врозь,
Тебе на твоё бесойлэм, мне на другой погост…
В окне, как в дуле пистолета,
только светлей от фонаря
и дольше долгого рассвета
сырое утро декабря…
Вот же, снова утром не светлеет,
ночи всё длиннее и темней.
Кто сказал, что будет веселее
через пару-тройку зимних дней…
Это стучат не в двери.
Это шуршит крыло —
замёрзшая ночью пери
просит открыть окно…
А я проснулся в два пятнадцать
и видел снег, который шёл —
мені здавалось, підіймався
між світлом зведених колон…
И кот идёт по проводам.
И ток.
А по протокам первый лёд
протёк…
Не узнавая со спины
мои грехи не отпускали,
пока другие не устали
от бесконечности войны…
Неугасаемые дни,
неприкасаемые ночи,
в которых людям снятся сны
о них самих же, между прочих…
Слушай меня, послушай,
слушай развесив уши,
шире раскрыв глаза.
зеркало — наши души
не отражают чуши
и отвечают за…
Не отвечаешь на вопросы.
Молчанием твоих ягнят
таких как ты, ясноголосых,
со мной проёбы говорят…
Кто-то оставил след —
мокрый пунктир шагов.
Верил, что сказка бред —
вышел и был таков…
Мне ничего не остаётся,
как молча ждать, что прилетит
со дна глубокого колодца
и я бы плюнул, но отит…
Соберёшься выносить сор из избы —
выметай, пожалуйста, чисто.
Передвинь мебель и проверь все углы —
помнишь, у тебя порвалось монисто…
Слушай, это такая драма —
мама уже вымыла раму,
на траве подсыхали дрова,
а Саша была не права…
А на небе не светят звёзды.
Только ночь и кулисой ткань.
Старый конь распахал борозды,
убегая в Тьмутаракань…
Ты говоришь — тут тишь да гладь.
Я буду тих и гладок
и целый день смогу решать
из ста загадок…
Осенняя хандра — такая сука,
за пазуху, за шиворот, в глаза
всё лезет, неопрятная старуха,
зашедшая с дождливого туза…
Не откидывай одеяло,
приглашая меня в кровать.
Мне молчания агнцев мало —
так непросто ложиться спать…
Когда так полюбили, что бросают
ребёнком слабым с целью на спине
и кормят со стрихнином пирогами,
напоминая, что в своей стране…
Затаи дыхание на вдохе
и до искр в глазах не выдыхай.
Это восходящие потоки
или волны, как у Хокусай…
Каждый из нас сделал что-то своё.
Бабушка в «black» просит налить коньяк.
Девушка N. не выносит бельё
Кто-то из нас знает — что-то не так…
время приходит заканчивать этот месяц,
длинный и тёмный, с болезнями и температурой.
хляби разверзлись и дождь мелкотравчатый бесит —
хочется выйти на улицу для перекура…
Кто видел горы — неба не боится
и задирает голову в зенит,
а там, в зените, только бог и птицы,
и самолёт, который долетит…
А если встать и, потянувшись,
переступить через порог,
и тихо, не будя уснувших,
не нажимая на курок…
Нас пытались отключить от рая,
перерезав вены проводов,
но другой такой страны не знаю,
где так много разных дураков…
Мы созданы из плоти и из плевел
и всходим отбивными на лугах.
Там, лицами повёрнуты на север,
полжизни переносим на ногах…
Над головой звезда и полумесяцы.
А может быть совсем наоборот —
нам не объять того, что там поместится,
не перейти по камешкам и вброд…
Вечером солнце садится в вагон проходящего поезда.
Билеты только в плацкарт, на боковую полку.
Хочется есть, хочется спать, но колется
матрас, будто набитый сухими иголками…
Под холодным дождём я иду с головой непокрытой,
отмокая, срывая, снимая остатки бинтов.
Я себе говорю, что с тобой мы, наверное, квиты
и зачатие снова пройдёт непорочно, без слов…
А вот, смотри, несёт бумажный ветер
картонных бабочек с востока на закат.
Их ловят на лугу в панамки дети —
и каждый пятый мальчик — Герострат…
Вот хочется уже #непровойну.
Ленивого, неспешного застолья
и, отдавая должное вину,
не запивать, а радоваться воле…
Негромкий звон. К заутрене, похоже,
зовут ещё живущих христиан.
Камо грядеши — бросил мне прохожий,
по виду из далёких, жарких стран…
Мои незнакомые гости
садятся в дому за столы,
накрытые — кожа да кости —
еще до рогатой луны…
Ты привыкаешь к одиночеству.
Пустой стакан, пустые сны.
И не сбылись тебе пророчества,
гадалки были не честны —…
Втемяшилось в такую темень —
в Тамани тоже чешут темя
и тяжко стонут в Темрюке —
синица в небе, хер в руке…
Я отмечал зелёной птичкой —
какая странность для чернил —
тех, кто меня обидел лично,
а золотой — тех, кто забыл…
Встречались разные — молились
и молча двигали богов
из категории, что снились
в разряд «ушёл и был таков»…
Что же теперь — скучать?
Просто считать столбы?
Даже, если печать —
мы не рабы, не мы…
Зачем тебе, пропащая душа,
садиться в поезд, возвращаться в город,
который жил спокойно, не спеша,
и прятал память каплями за ворот…
Своих сов
закрывай на засов.
Не дай бог, вылетят и начнут ахать и ухать,
рассевшись по дубам и букам…
Бесконечная азбука Морзе
из отрывистых точек-тире —
Конче-Заспа, ответьте, здесь Ворзель,
мы вас слышали в феврале…
Всё казалось течёт, как речная вода,
открывавшая глубь по условному стуку.
Всё казалось простым, кроме кубиков льда,
издававших сухие и нервные звуки…
Моих слепых встречаю по походке —
всегда левей, чем хочется бредут
и запивают правду сладкой водкой,
а горькую из принципа не пьют…
«Может быть» — это уже много,
почти начало романа,
даже, если лицо строго,
даже, если в чужих планах…
Из забытого — вещи в тумбочке,
две футболки, трусы, носки,
шорты белые в жёлтые уточки
и исписанные листки…
Не гневи, говорю, бога,
потому, что пока живой.
Потому, что таких много,
а всплывает один Ной…
Нет ни счастья, ни несчастья,
горя нет и нет беды,
только вечное ненастье,
только тяжбы да суды…
Помню запахи в коридоре —
капустой и квашенными огурцами.
Обычным коммунальным счастьем и горем
и сквозило из рассохшейся рамы…
Хочется драматичности.
Развенчания культа личности.
Выноса тела из Мавзолея,
чтобы внести сменщика поскорее…
Разъедемся скорее. Не в Москву.
Она давно уже не существует
и над развалинами ветер дует
в помятую жестяную трубу…
Непромокаемая пыль
на неразвёрнутых обложках,
в которых кто-то спал и пил
и разъезжал на неотложках…
В присутствии безгласных я молчу
и слушаю их речи и стихи,
похожие на вкус на алычу,
которой воздается за грехи…
Нам повезло — мы спрятались в лесу,
искали мох, направленный на север
и пальцами держали на весу
того, кто без сомнений нам поверил…
Целуй меня чаще, читай меня реже,
а тот, кто отмерил никак не отрежет,
всё то, что уже никому и не нужно,
не смотрит в глаза, улыбаясь натужно…
Мои слова из одиночества —
оно исчадье всех начал
и я не помню, как по отчеству
его в блокноте записал…
Без двадцати пяти четыре.
Кто жил в этой квартире
и заводил эти часы?
Стрелки разглаживал как усы…
Камо грядеши, брат,
конным и пешим,
на щите или со щитом,
на барке с парусом под косым углом?..
От перемены мест
слагаемых всё меньше,
а между ними крест
и целованье женщин…
Все дороги ведут в Рим.
Да и бог с ним.
Кому нужны дороги, не ведущие к тебе?
Они доходят до тумана и обрываются в пустоте…
У Марселя Пруста
на голове шляпа из Хуста.
У Франсуазы Саган
на столе недопитый калган.
У Жан-Поль Сартра
краплёные карты…
Это мы вам придумали книгу,
написав на чужом языке,
что нельзя прятать в рубище фигу
и подсказки писать на руке…
Я отпускаю вам грехи
по Телеграму и Вотсапу.
Епитимьи мои легки —
идти в поля и тихой сапой…
Словам ни жарко, ни тепло —
они уходят с губ и тают
или, взрываясь о стекло,
как майский жук не улетают…
Господи, здесь мы, здесь,
нам-то куда деваться —
слушать благую весть,
мыться и раздеваться…
Я повторял уже стократ —
война — бесчуственная сука.
Молчание чужих ягнят
пронзительней частот сверхзвука…
Не впервой прыгать в эту воду,
от неё, как на молоке,
обжигаешься, а колоду
через пень уже налегке…
Ночью все змеи серы.
Это воспоминания Веры.
Вера верила, что змей — искуситель есть
и берегла свою девичью честь…
Я если б жил, считая дни,
и ставил крестики могилам,
не видя Эльмовы огни
на них горящие вполсилы…
Не передать, не пережить,
не всё в один лоток сложить
и, прижимая локти к телу,
идти по улицам по делу…
Я много не прошу, но дай рассыпать
моё зерно, без кожи и костей.
Я кошек покормил вчерашней рыбой,
а пёс был сыт — вернулся из гостей…
Когда застрянет
Солнце, не спускаясь
по прихоти Исуса — не того,
тогда тебе поверю и раскаюсь,
прощу своих, но не твоих врагов…
Шапка моя по Сеньке — из под неё не льёт.
Если ударит громом — он меня не убьёт.
Молния если грянет — не перекрещусь.
Выпьете на поминках? Пусть это будет «Гусь»…
Оставите меня учить стихи,
читать Кабанова без знаков препинаний,
а выучив — податься в пастухи,
водить овец по тротуарам знаний…
Когда расставят все акценты
ты станешь точками над и
и разорвётся кинолента
на полуслове — «люб». А «ви»…
Дом проплывает судном, не суднОм,
а мы его, смешные пассажиры,
лежим, сидим, и ходим в нём вверх дном,
но, слава Б-гу, счастливы и живы…
Я видел небо в белые узоры,
наколотые золотой иглой
и головные облаков уборы,
за слоем растворяющие слой…
Догорит огонь и остынет дом —
приходи ко мне, посидим вдвоём
под холодный чай с ледяной халвой.
Вот тогда читай про себя, со мной…
Ждёшь, что она прочтёт,
текст, что тобой написан.
Это твой недолёт,
это хвосты, как лисьи…
Читай, читай, тихонько, про себя,
тебе одну известную молитву.
Твой толстый панцирь — тонкая броня,
как шелуха спиралью, острой бритвой…
Между тем и этим, между сим и прочим
я встаю так рано, я чернорабочий
и иду по серым лоскутам асфальта
на чужие ноты, спетые контральто…
А потом, после всего,
двойной эспрессо.
Всего ничего.
И не для прессы…
Что же — верить и не сомневаться
в правоте ясноглазых девиц?
Это, братец, внебрачные танцы
тонконогих коленчатых птиц…
Каждый из этих двоих
лупит меня под дых.
Чёрный в левом углу
тянет меня ко дну…
Запиши на стенке белым мелом
или на листе карандашом —
всё, что этим августом поспело
по квартире носят голышом…
От дождя меня пробивает дрожь.
Я всегда вспоминаю тебя, когда идёт дождь.
Я вспоминаю кожу, влажную от дождя.
Когда идёт дождь, я всегда вспоминаю тебя…
Рука в безвольных сухожилиях —
не может пальцы сжать в щепоть.
Мы, вроде, все против насилия,
но попираем прахом плоть…
Я придумал. Нам необходимо «стоп-слово».
Снова и снова.
Остановиться на полдороге.
Взглянуть под ноги…
мимо киосков,
продающих новости и сладкую воду,
мимо новых домов — переростков,
выросших, как грибы по осенней погоде…
Так далеко от родины,
но ностальгии нет.
И если жить — свободными
и быть, не умереть…
Поговорили ни о чём
и помолчали о извечном.
Б-г оказался скрипачом,
играющим по нотам млечным…
Реагируешь на простые вещи —
на них всегда легче
и пропускаешь мимо ушей страшные.
Они многоэтажные,
с подвалами и балконами…
Есть ещё океан. Есть ещё привкус соли.
Ветер песок метёт, жёсткий такой, до боли.
Водоросли в карман прячет волна на после.
Есть ещё океан — это страна для взрослых…
Табор уходит в небо.
Ступицы не стучат.
Где-то внизу и слева
вырощен город-сад…
Как подорвавшийся на мине
висела ночь на проводах,
не прикасаясь к жёлтой глине.
Но может было всё не так?..
Хватит давать советы.
Было всё задолго до лета,
разделённое на до и после.
На никогда и вовсе…
Ты, если пишешь, то зачёркивай,
почти до дырок вытирай.
А их потом затянет корками —
спасённым воля, вольным рай…
Дожить бы до утра, доспать бы до рассвета
так низко над землей, чтоб не нашёл радар
за тридцать долгих дней до перехода лета
и пальцами двумя не убирать нагар…
Меня несёт по переездам,
по перестукам костылей.
Я постоянно где-то между
твоей конечной и своей…
Мне кажется, что мы простыли
на сквозняках открытых душ.
Хотя, дожди давно не лили
и это всё, конечно, чушь …
Не сделаны дела.
Но это полбеды.
Написаны слова.
Но это полводы.
Нашиты галуны…
Я встретил вчера на шоссе странного человека.
Он шёл по обочине, собирая осколки.
На нём была куртка «рыбьего меха» —
выглядела богато, но от неё мало толку…
Мы просто жили, по привычке,
глазами в землю, а потом
ловили редкие ледышки,
зашитым, как карманы, ртом…
Ты жизнь прожил? По датам судя — да.
Намазаны неровно, серебрянкой.
Совпало так — в апреле двадцать два —
двадцать второго ты убит был в танке…
Ночь пройдёт, а дня не будет.
Несмотря на пересуды
и запреты главврачей,
купим восковых свечей…
А що там за вікном? Дощить?
Ні, жарко й шнурує горло спрага.
Перед світанком застигає мить,
як по бажанню циркового мага…
Так спать или не спать?
Вот улица, фонарь, кровать
заливший ровным жёлтым цветом.
Ночь целится блестящим пистолетом…
Проверяю температуру воздуха наощупь,
касаясь листа зацветающей липы в саду.
Из окна он казался свежим и сочным,
но я поймал его, как бабочку, на лету…
Перещёлкиваю каналы,
перепрыгиваю с программ.
Белый снег на моём экране
заметает подъёмный кран…
Разговаривают по субботам
с тем, чьё имя нельзя всуе.
Он по субботам не идёт на работу.
Можно пробовать напрямую…
На ладони каплями дождя,
похожими на детские слёзы,
разливается море прозрачного сентября,
а за ним приходят мартовские морозы…
Что у тебя за время на часах,
потерянное, ссыпанное в колбу,
в котором все песчинки на местах,
а может это зёрна древней полбы…
О чём стихи? Стихи всегда о море.
А если в рифму — о его просторе,
о волнах, пене, девушках в бикини.
Ну, или без, мы виделись с такими…
Если нет меня — не доехал.
Снова лопнуло колесо.
На экране моём помехи —
ожидают в Буркина-Фасо…
Прислушался — но тише не бывает.
Уснули все — собаки и коты,
но если не гремит — не убивают
людей, дома, животных и мечты…
Мне кажется, что мы простыли.
Наш громкий кашель на ветру
разбудит грузчиков в порту.
Они споют на суахили…
Я приезжаю на гастроли,
а уезжаю на ремонт —
от пересохших луж из соли,
от слёз, от жизни, от забот…
Сегодня уже шестое.
Чайки ноют.
Голосят на чужую беду.
Что-то типа — я точно уйду…
Ты не заснёшь, пока тебе будут сниться
тела и им надлежащие лица
тех, кто считал белых ворон и баранов,
по копытам и крыльям. Всю ночь неустанно…
Тени всегда исчезают в полдень.
Даже у тех, у кого их никогда не было.
Кто ты такая, чтобы быть против,
кто я такой, чтобы это требовать….
Просто небо просто неба
прохудилось и течёт.
Зонтик, чудо ширпотреба,
спицами наоборот…
На тот большак, до водокачки,
похожей на огромный член,
я шёл по следу, как собачка,
но не дождался перемен…
В раскатах грома мало прока.
Собакам страшно и темно.
Скажите там Илье-пророку,
что после боя всё равно…
Пишут тебе, всё пишут
буквами на крови.
Слышишь, тебя не слышат
даже твои свои…
Ты, если помнишь, есть законы —
не сообщай, когда придёшь.
Я слышу бьющий в крышу дождь
и громкий монолог вороны…
Сергей Сергеевич Миздякин никогда особо не переживал по поводу своей фамилии. Хотя, как мы все понимаем, мог бы. Миздякины были рода не простого…
Когда-то всё у них было хорошо. Они стояли на площадях, улицах, в парках. Причём, некоторые из этих объектов градостроительства и культуры даже носили их имена…
Фишманы жили в доме на шесть семей напротив церкви, но в неё не ходили. Семён был евреем, а Диляра крымской татаркой. Он работал в соседней области и уезжал туда в воскресенье вечером, около семи часов, а возвращался по пятницам, после обеда…
Завтра утром я сыграл бы тебе блюз.
Беда в том, что я не умею играть и петь. Поэтому я смеюсь.
И мой голос хрипит, как ржавая жесть
на ветру, на углу, на грозу.
Это такая мелкая и детская месть
за непролитую по мне слезу…
Если верить, а верить придётся,
отбивая поклоны в окно,
что мы были всегда инородцы
и толкли дерезу в толокно…
Не открывай глаза, не выходи из зоны седьмого, фантастического сна, они зашорены и на спине попона, а за окном не осень, а весна…
Когда это всё закончится,
а это всё точно закончится,
я выйду из одиночества,
которому сотня лет
и вспомню тогда пророчество…
Я обещал тебе быть осторожным
и не трогать тебя руками.
Это чудовищно сложно.
Прекрасно. Местами…
Недомоганье не смогло —
недоуменье дотянуло.
Недостроителям углов,
похоже, голову надуло…
Это будет во вторник. Вот точно, во вторник.
В дверь постучат. Я вспомню: «Садовник!»
Но это вовсе не он.
Там будет стоять в трусах, пиджаке и с веслом
сэр Борис Джонсон.
Он скажет с британским прононсом…
Мне так хотелось сказать:
«Улыбнись, дура!»
Когда ты улыбалась, у тебя проступала натура,
та, которой уже не делают больше.
Губы, растягиваясь, делались тоньше
и на них становились невидимы трещинки…
И вдруг, ночью,
когда не видно звёзд из-за огней большого города,
не умолкающего вечно сигналящими машинами, визжащими скорыми, орущими детьми, ссорящимися соседями, собаками, лающими друг на друга и на людей, и ещё одной, воющей в доме напротив, как будто там кто-то умер, а проверить некому, лифтом…